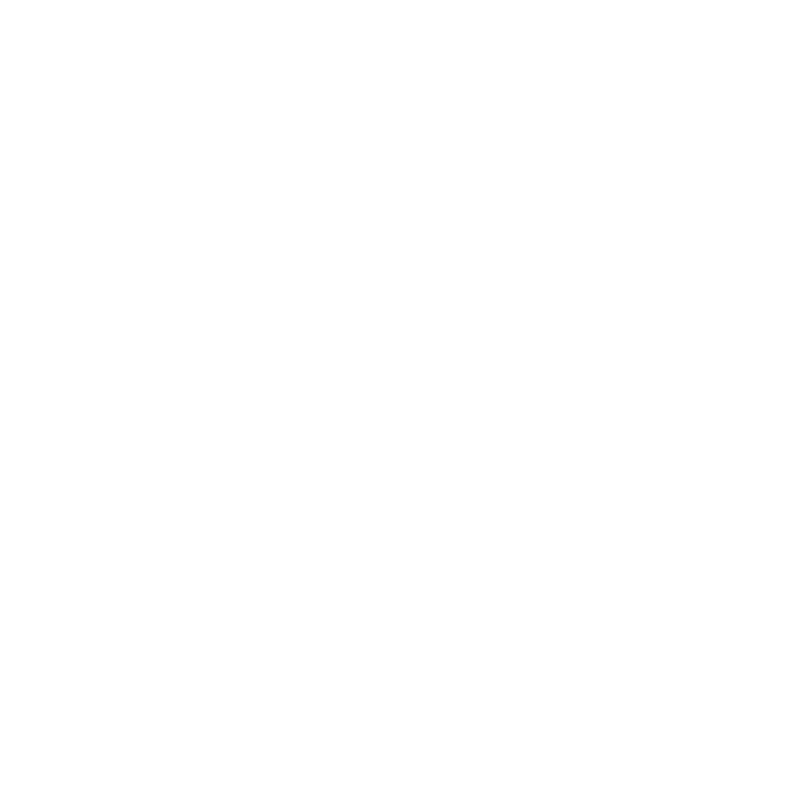Иконография Платона в античности и в средневековой православной живописи
Методы исследования. В работе над темой применялся комплексный, междисциплинарный метод, свойственный философским исследованиям. Были задействованы результаты исторических, антропологических, семиотических и искусствоведческих исследований по вопросам визуальной интерпретации образа античного философа в разные эпохи.
Анализ современной зарубежной и российской научной литературы по представленной теме показал отсутствие анализа и даже представления традиции изображения Платона, хотя она явно существует как в европейской, так и в русской культуре.
Методы семиотического и философского анализа визуальных объектов были использованы с опорой на таких авторов как Р. Барт, М. Кантор и др.
Методы сравнительного анализа использовались авторами для сопоставления различных изображений Платона и выявления их культурного значимых черт.
Детали исследования. В современной культуре визуальное в силу разных причин (в том числе технологических) вышло из-под репрессивной власти текста; так, например, глобальное распространение Сети и повсеместное внедрение в нашу повседневную жизнь компьютерных технологий позволяет говорить о переходе от нарративизации образа к все большей визуализации текста. Действительно, визуальный образ во многом обрел суверенность и стал определять собой наше восприятие мира вообще и языка в частности. Поэтому столь естественным и даже необходимым предстает в наше время раскрытие визуальной составляющей истории философии не как вторичной, подчиненной по своему значению письменному тексту, выступающей как его иллюстрация, привлекательная, но отнюдь не обязательная, а как самостоятельная и фундаментальная перспектива исследований, способная по-новому представить, как философию и ее развитие, так и самого конкретного философа. Именно в контексте формирования визуальной антропологии и истории философии авторы подходят к труднообозримой по своим масштабам теме иконографии Платона в Античности и Средневековье.
На древнегреческих скульптурах, бюстах, гермах философов и их римских копиях языковое сообщение представлено в минимальной степени, например, в присутствии имени, позволяющей идентифицировать данный образ. Впрочем, учитывая в основном устный характер античный культуры, такой образ узнавался не благодаря такой «нарративной этикетке», а на основе сложившихся в этой культуре общих, зачастую символических и идеальных представлений о том, как должен выглядеть философ вообще, представитель отдельной философской школы и ее конкретный представитель, особенно основатель или великий, а также их характерных визуальных атрибутов.
Другое дело, что в средневековой христианской культуре, когда значение письменного слова существенно увеличилось и даже сакрализировалось, мы часто будем встречать образ философа с большим количеством надписей из разного рода письменных источников, призванных определить оценочную перспективу восприятия этого образа и позволяющих идентифицировать данный образ. Этому способствовало и то, что в православии иконография античных философов и в частности Платона была представлена в основном в форме фресковой живописи или, скажем, в форме образов на церковных металлических или медных вратах (как в Благовещенском Соборе московского Кремля или Троицком Соборе Ипатьевского монастыря).
Если говорить об античной иконографии Платона, то, в сущности, мы видим два варианта его портрета - во-первых, пожилого, задумчивого человека. Герма, с которой делались дошедшие до нас римские копии, была установлено, судя, по общему мнению, современных историков, в Академии в 340-х годах, вскоре после смерти философа. Есть второй «тип» изображений, где Платон выглядит как атлет (например, в Капитолийском музее). Если эти изображения - не позднейшая подделка, то они передают не реальность платоновского облика, а то, каким бы он мог бы быть, в связи с прозвищем «Широкий» и информацией о занятиях борьбой.
Если космологически-пластическая антропология Античности воплотилась в скульптурном образе человека вообще и философа в частности, то христианство привносит и развивает личностно-визуальную антропологию с новым образом человека, выраженным прежде всего в иконе, но также в фресковой и мозаичной живописи. Православный средневековый мир очень большой и неоднородный. Конечно, основополагающий иконографический «тренд» в нем, вплоть до своего падения под напором турок в 1453 г., задавал Константинополь, столица Византийской империи. Но, безусловно, нельзя не признавать и самостоятельную ценность, и своеобразие в этом вопросе Болгарии, Сербии, Молдовы и, конечно, Древней Руси. Во всех этих странах мы можем найти уникальные собрания образов античных философов, прежде всего в храмовой фресковой живописи. И хотя эти собрания могли включать разных античных философов, но практически в каждом из них, будь то церкви Афона, Янины, Больших Метеор, Южной Буковины, Призрени, Москвы, Новгорода, Костромы и др., мы найдем образ Платона, подлинного символа древнегреческой мудрости, особенно для православного христианства.
Заключение. Очевидно, что анализ образа Платона в Античности и в средневековой православной живописи (и вообще образа человека, не только в искусстве, но и жизни: их отличия также нужно иметь в виду и исследовать) уже не укладывается в границы структурно-семиотического подхода. Мы хотим раскрыть большую значимость и суверенность визуальной составляющей образа, имеющую свою собственную целесообразность и находящуюся с языком не столько в отношениях подчинения, сколько диалога, хотя иногда и конфликтного. Основой для этого для нас выступает установка эстетики человеческого образа, могущая показать свою продуктивность и в отношении Платона. Мы постарались сделать в этом направлении только первый шаг.